Содержание
Ни один врач не заподозрил неладное.
В 1972 году восемь здоровых людей обратились в американские психиатрические лечебницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Они попросту притворились, рассказав о несуществующих симптомах, но никто этого не заметил.
Все псевдопациенты получили диагнозы и заняли койки в палатах психиатрических лечебниц. Помимо изначально придуманных жалоб они не показывали никаких признаков расстройств — вели себя абсолютно нормально и на приёмах рассказывали реальные истории из жизни.
Но всё равно люди провели в больницах в среднем около 19 дней, получали лекарства и были выписаны с диагнозом. Ни в одной из клиник не заподозрили неладное, и никто из псевдопациентов не был признан полностью здоровым.
Так проходил знаменитый эксперимент социального психолога из Стэнфордского университета Дэвида Розенхана. В 1973 году он опубликовал результаты в научном журнале Science заявив, что современная психиатрия не способа отличить безумца от здравомыслящего человека.
Как проходил эксперимент Розенхана
Доктор Розенхан набрал семь добровольцев, а сам стал восьмым. В группе было трое женщин и пять мужчин: студент, психологи, психиатр, педиатр, художник, домохозяйка.
Розенхан выбрал 12 психиатрических лечебниц в разных штатах США, и дал участникам чёткие инструкции. Люди должны были обратиться в клинику с жалобами на слуховые галлюцинации — рассказать, что слышат незнакомые и часто неясные голоса, говорящие о пустоте. Розенхан выбрал такие симптомы, потому что ранее в литературе не было описано именно таких случаев.
В остальном псевдопациенты должны были вести себя абсолютно нормально, честно рассказывать врачам о своём прошлом, об отношениях с родными и коллегами, пережитых эмоциях, радостях и огорчениях.
Перед началом эксперимента большинство участников волновались. Им казалось, что врачи легко раскроют обман, обвинят их в мошенничестве и выгонят взашей. Но вышло по-другому — всех псевдопациентов госпитализировали.
В клиниках им не нужно было симулировать симптомы, и они вели себя, как обычно. Конечно, поначалу они нервничали. Ведь никто из них по-настоящему не верил, что окажется в больнице. Более того, многие впервые были в таком заведении. А те, кто уже лежал в психиатрической лечебнице по работе, переживал о том, что с ним там произойдёт.
В остальном же они вели себя, как обычно. Разговаривали с другими пациентами и персоналом, брали лекарства, которые, впрочем, не пили, а прятали или спускали в унитаз. Когда персонал спрашивал о симптомах, участники говорили, что всё в порядке и они уже не слышат никаких голосов. Они не мешали медсёстрам, были дружелюбными, сотрудничали с врачами и не делали абсолютно ничего, что отклонялось бы от нормы.
Другие пациенты клиники замечали, что участники эксперимента не выглядят, как психически больные. За всё время пребывания в лечебнице 35 больных открыто сомневались в том, что люди из группы Розенхана действительно страдают от расстройства.
Впрочем, несмотря на адекватное поведение и отсутствие жалоб все псевдопациенты пробыли в клинике не меньше недели. Самое короткое пребывание составляло семь дней, а один человек задержался в лечебнице аж на 52 дня. При этом никто их толком не осматривал и не проверял состояние.
Как и многие другие пациенты, участники эксперимента понятия не имели, когда смогут выписаться. Хотя почти все захотели выйти сразу же, как только оказались в лечебнице. Персонал же пространно сообщал, что это произойдёт, когда врач убедится, что человек здоров.
В итоге одного псевдопациента выписали с диагнозом «шизофрения», у остальных в карте значилось «шизофрения в ремиссии». И если бы участники эксперимента назвали свои настоящие имена, а не псевдонимы, это могло бы не лучшим образом сказаться на их карьере.
Какие выводы сделал Розенхан после эксперимента
Основываясь на личном опыте и рассказах людей из своей группы Розенхан сделал несколько выводов.
Методы диагностики несовершенны, а врачи легко поддаются ошибкам восприятия
Доктор предположил, что психиатры нередко становятся заложниками когнитивного искажения, и чаще считают, что здоровый человек болен, чем что больной здоров. В целом, это довольно распространено в медицине, поскольку пропустить заболевание опаснее, чем потратить дополнительное время на диагностику.
Однако Розенхан отметил, что в психиатрии это работает плохо, потому что диагноз шизофрения — это совсем не то же самое, что какая-нибудь язва желудка. Стигматизация психиатрических больных может помешать устроиться на работу или вызывать проблемы в межличностных отношениях. В общем, испортить жизнь по всем фронтам.
В то же время доктор отметил, что персонал клиники склонен к той же стигматизации, что присутствует в обществе. И если уж человека признали больным, то любой его опыт будет рассматриваться, как доказательство психических отклонений.
Например, один псевдопациент рассказал на приёме, что в детстве хорошо общался с матерью, а с отцом контактировал меньше. Но начиная с подросткового возраста всё изменилось — с отцом он начал дружить, а с матерью общение стало прохладными. На момент интервью у него были тёплые отношения с женой, хоть иногда и случались ссоры. Детей он наказывал редко. В целом, обычная история, какие можно услышать от многих здоровых людей.
И вот что об этом думал врач: «Белый мужчина 39 лет… была длительная история двойственности в близких отношениях, которая началась в раннем детстве. Тёплые отношения с матерью охладели в подростковом возрасте. Дистанцирование от отца описывается, как очень интенсивное. Аффективная стабильность отсутствует. Попытки контролировать эмоции с женой и детьми прерываются вспышками злости и, в случае с детьми, оборачиваются наказаниями. И хотя он говорит, что у него есть несколько хороших друзей, чувствуется также значительная двойственность, заложенная в этих отношениях».
Доктор Розенхан сделал вывод, что ярлык «психический больной» мешает психиатрам проводить диагностику и делает её очень ненадёжной.
Обстановка в психиатрических клиниках не способствует выздоровлению
Псевдопациенты отмечали, что атмосфера в психиатрических клиниках далеко не самая приятная.
Персонал больницы почти не обращал внимания на пациентов, за исключением случаев, когда надо было дать им лекарство или какие-то указания. С больными никто не беседовал, а их прямые вопросы зачастую игнорировались. Большинство медработников отвечали на бегу, в лучшем случае повернув голову в сторону вопрошающего. Или отделывались общей фразой вроде «Эй, Дэйв. Как ты?», и уходили, не дожидаясь ответа.
Такое отношение вызывало у участников эксперимента чувство обезличивания.
Как объяснил доктор Розенхан, в психиатрической клинике права и свобода человека сильно урезаны.
Он не может ходить, куда вздумается и контактировать с персоналом по своему желанию, но при этом обязан отвечать, если обращаются к нему.
Кроме того, медсёстры не стеснялись обсуждать пациентов прямо в их присутствии, как будто их и не было вовсе. А одна женщина расстегнула униформу и начала поправлять лифчик при мужчинах-пациентах, не обращая на них никакого внимания, будто ей нечего стесняться.
У пациентов психиатрической клиники не было и права на приватность. Любой член персонала мог войти в палату и без разрешения проверить личные вещи. Карточка больного также была доступна всем работникам больницы, которые пожелают взять папку с его делом. За пациентами следили даже когда они мылись, а в некоторых туалетах не было дверей.
Всё вместе это создавало настолько мощное ощущение обезличивания, что некоторым участникам эксперимента начинало казаться, что они невидимы или, как минимум, не достойны внимания.
И хотя псевдопациенты понимали, что они на самом деле не больны, не принадлежат к этой среде и скоро из неё выйдут, всё же пытались справиться с обезличиванием, иногда вопреки правилам эксперимента.
Так, один из участников — студент, попросил жену принести его тетради, чтобы продолжать учиться. Хотя он получал строгие предписания не раскрывать свой род деятельности. Он же внезапно вспомнил, что на выходных будут гонки, а потому ему нужно выписаться до этого времени, чтобы посмотреть. Ещё один псевдопациент закрутил роман с медсестрой, а до этого рассказывал персоналу, что его должны принять в аспирантуру.
В итоге Розенхан сделал вывод, что обстановка больниц не способствует выздоровлению.
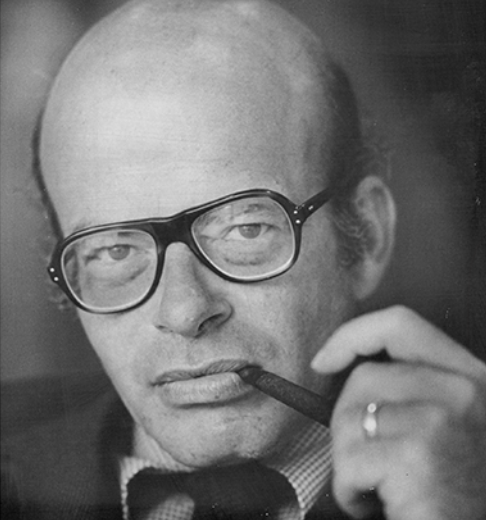
Дэвид Розенхан
Социальный психолог
Очевидно, что мы не можем отличить психически здоровых от сумасшедших в психиатрических больницах. Сама больница создаёт особую среду, в которой смысл поведения легко может быть неправильно истолкован. Последствия для пациентов, находящихся в такой среде — беспомощность, обезличивание, изоляция, унижение и самостигматизация, без сомнения не способствует их выздоровлению.
На склонность врачей ставить диагнозы психических заболеваний можно повлиять
Поскольку Розенхан усомнился в способности психиатров ставить верные диагнозы, он решил проверить, можно ли справиться с этой проблемой, если, например, заранее предупредить их о том, что работу будут проверять.
Доктор провёл ещё один эксперимент. Врачам и медсёстрам психиатрических клиник сказали, что в следующие три месяца в их заведение поступит как минимум один псевдопациент, а может и больше. Каждого сотрудника больницы попросили оценить всех поступающих людей по 10-балльной шкале на предмет обмана. Например, если врач был почти уверен в том, что новый пациент притворяется, он должен был поставить ему один балл, а если убежден, что у человека на самом деле есть расстройство — десять.
За три месяца сотрудники больницы вынесли суждения о 193 пациентах. И 19 из них были отмечены, как потенциальные псевдопациенты не только врачом, но и ещё одним членом персонала клиники.
На самом же деле Розенхан не посылал в эти больницы вообще никого. В результате такого троллинга доктор ещё больше убедился в своих выводах — психиатры, медсёстры и весь остальной персонал больницы не способны отличить больных от здоровых. Но если на кону стоит репутация клиники, они как минимум будут осторожнее ставить диагнозы.
Как психиатры отреагировали на эксперимент Розенхана
Эксперимент Розенхана имел оглушительный успех, о нём написали все крупные американские медиа того времени вроде New York Times, его упоминали в книгах по психологии. Но, конечно, не обошлось и без критики.
Американский психиатр Роберт Спитцер написал целую статью, посвящённую разоблачению эксперимента. Он нашел немало несоответствий в работе Розенхана:
- Несмотря на то, что Розенхан пишет, что пациенты вели себя в больнице, как абсолютно нормальные люди и не обманывали персонал, на самом деле они продолжали лгать. Потому что окажись в этой ситуации здравомыслящий, абсолютно здоровый человек, он бы подошёл к медсестре и сказал: «Я на самом деле подставной, проник в больницу, симулируя диагноз, чтобы проверить, можете ли вы ставить нормальные диагнозы».
- Все участники получили диагноз «шизофрения в ремиссии», что как раз и означает, что у них нет симптомов заболевания. То есть, психиатры правильно определили, что псевдопациенты ведут себя абсолютно нормально.
- Врачи не писали, что пациенты до сих пор находятся в психозе, слышат галлюцинации, но отрицают это или имеют неподходящий аффект. Розенхан не сообщил о таких записях, хоть и имел доступ ко всем картам пациентов. Значит, их не было.
- Розенхан в своём исследовании выставляет всё так, будто как только человек с шизофренией выходит в ремиссию, его моментально выписывают. На самом деле у людей с таким заболеванием даже в ремиссии часто сохраняются симптомы, а при выписке им часто ставят тот же диагноз, что и при поступлении.
- Диагноз «шизофрения в ремиссии» даётся очень редко, почти никогда. Чаще врачи пишут просто «шизофрения» или добавляют дополнительную цифру в код. Спитцер проверил множество выписок и карт из больниц и обнаружил «ремиссию» только в 7% всех диагнозов при выписке. Он сделал вывод, что врачи всё же поняли, что псевдопациенты не болеют, раз поставили им всем именно «шизофрению в ремиссии».
- Розенхан утверждал, что одних галлюцинаций мало, чтобы поставить диагноз. Но помимо рассказа о голосах у псевдопациентов было желание попасть в больницу. То есть, у врачей сложилось впечатление, что люди испытывали достаточно сильный стресс, чтобы попросить о госпитализации. Более того, псевдопациенты сообщили, что слышат голоса уже три недели, а этого достаточно, чтобы не считать их псевдогаллюцинациями — картинами, которые видишь по пробуждению или во время отхода ко сну, или побочным эффектом бурного воображения.
- У пациентов не было очевидных причин симулировать безумие и просить о госпитализации, что могло бы насторожить психиатров и заставить их задуматься, реальны ли описываемые симптомы. Учитывая желание людей попасть в больницу, врачи сделали вывод , что единственная причина такого стремления — это реальная болезнь.
- Вывод Розенхана о том, что психиатры не способны отличить сумасшедшего от нормального основаны на выборке в восемь человек.
Американский нейробилог Сеймур Кети сделал ещё более драматичное и яркое заявление по этому поводу.
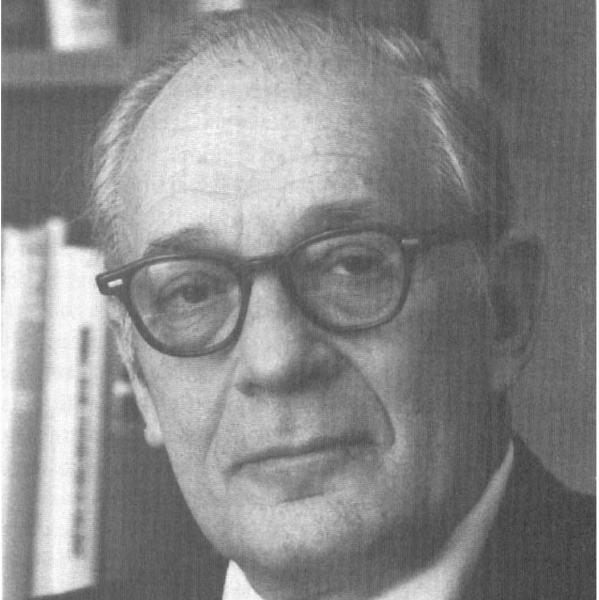
Сеймур Кети
Американский нейрофизиолог и психиатр. Один из первых исследователей биологических основ психических расстройств, особенно шизофрении.
Если бы я выпил кварту крови и, скрыв это, с кровавой рвотой пришёл бы в отделение экстренной медицинской помощи любой больницы, поведение персонала было бы вполне предсказуемым.
Если бы они поставили диагноз и начали лечить меня от язвы желудка, я сомневаюсь, что смог бы убедительно утверждать, будто медицина не умеет диагностировать это состояние.
Кажется, что обе стороны по-своему правы. Опыт восьми человек, к тому же симулирующих симптомы, и правда мало что доказывает. Но и ошибки в диагностике, и стигматизация психических расстройств не выглядят сказкой, которую Розенхан придумал, чтобы привлечь общественное внимание.
Тем более, что эти проблемы не исчезли полностью и в современном мире.
Как обстоят дела с диагностикой психических заболеваний сейчас
Конечно, в начале 70‑х годов XX века диагностика была не совсем не такой, как сейчас. Тот же Роберт Спитцер, например, внёс большой вклад в создание научно-обоснованного руководства по диагностике психических расстройств — DSM III. В отличие от предыдущих версий, в третьем издании были чёткие диагностические критерии, многоосевая система оценки и нейтральное отношение к причинам психических заболеваний.
С тех пор сменилось уже несколько руководств, и последнее — DSM-5-TR, вышло в 2022 году. Оно включало последние научные данные на момент выпуска, а в его создании поучаствовали более 200 экспертов.
Но несмотря на развитие диагностики, ошибаются и современные психиатры. Например, одно исследование показало, что у детей и подростков в 18% случаев не диагностируются существующие тревожные расстройства, а у 1% диагноз ставится ложно.
В другом эксперименте учёные проверили более пяти тысяч взрослых американцев и выяснили, что только 38% людей с диагнозом депрессия соответствовали диагностическим критериям этого расстройства.
Авторы британского исследования проверили 441 пациента с главным депрессивным расстройством. Результаты показали, что только 15% соответствуют критериям заболевания. В то же время у 31% людей с якобы депрессией обнаружилось невыявленное ранее биполярное расстройство.
Также психиатры могут перепутать шизофрению с другими нарушениями. Например, о гипердиагностике этого заболевания — постановке диагноза тем, у кого его нет, сообщили учёные из Малайзии.
Авторы исследования с данными более 26 тысяч человек выяснили, что в течение четырёх лет после обнаружения шизофрении в трети случаев врачи меняют диагноз на другой. Например, расстройство личности, бредовое или биполярное расстройство.
Однако психиатрия не стоит на месте, и врачи получают всё более точные диагностические руководства. Возможно, в будущем учёные разработают методы, которые позволят по максимуму исключить ошибки.
Например, авторы одного исследования отметили, что использование чеклистов по диагностике помогает врачам реже ставить неверный диагноз главного депрессивного, генерализованого тревожного и пограничного расстройств. Хотя учёные и отметили, что с чеклистами врачи чаще пропускают депрессию, когда она есть.
Другой эксперимент показал, что неверную диагностику можно предотвратить, если прочитать врачам лекцию о когнитивных ошибках и способах их избежать. Специалисты, получившие такие знания, ставили больше точных диагнозов и реже ошибались, чем те, кому прочитали лекцию о биполярном расстройстве.
Как сейчас относятся к больным психиатрических клиник
В 2016 году авторы системного обзора заключили, что не существует страны или культуры, которая не стигматизировала бы психические расстройства.
В научной работе 2023 года учёные отметили, что во многих странах до сих пор используются стигматизирующие термины для обозначения психиатрических больниц, а на пациентов навешивают ярлыки вроде «сумасшедший» или «псих».
Годом ранее комиссия журнала Lancet выпустила целое руководство о том, как бороться с дискриминацией по ментальному здоровью в обществе. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема стигматизации актуальна и в наше время.
Что касается условий в больницах, официальной информации об этом очень мало. Но некоторые данные позволяют предположить, что всё не слишком хорошо.
Например, в 2011 году вышел отчёт одного психолога, который из-за серьёзных стрессов попал в американскую психиатрическую больницу. Он рассказал, что первичный приём проводил интерн, и через 20 минут общения поставил новому пациенту диагноз биполярное расстройство. После этого мужчине назначили терапию и продержали его в больнице 21 день. Как и участники эксперимента Розенхана, он испытывал большие неудобства, жаловался на невнимание со стороны персонала и нарушение личных границ.
У нас нет статистики по российским психиатрическим больницам или исследований, показывающих, что в этих заведениях присутствует стигматизация или нарушаются права человека. Можно судить лишь по отдельным сообщениям от людей, побывавших в таких заведениях, хотя это и нельзя считать надёжным источником информации.
Одни сообщают, что в больницах за провинность, по мнению персонала, могут наказать тяжелыми лекарствами, а то и вовсе закрыть в «мягкой комнате». Другие рассказывают о скуке, плохих бытовых условиях и полном неведении о том, когда их выпишут. Прямо как в эксперименте Розенхана.

